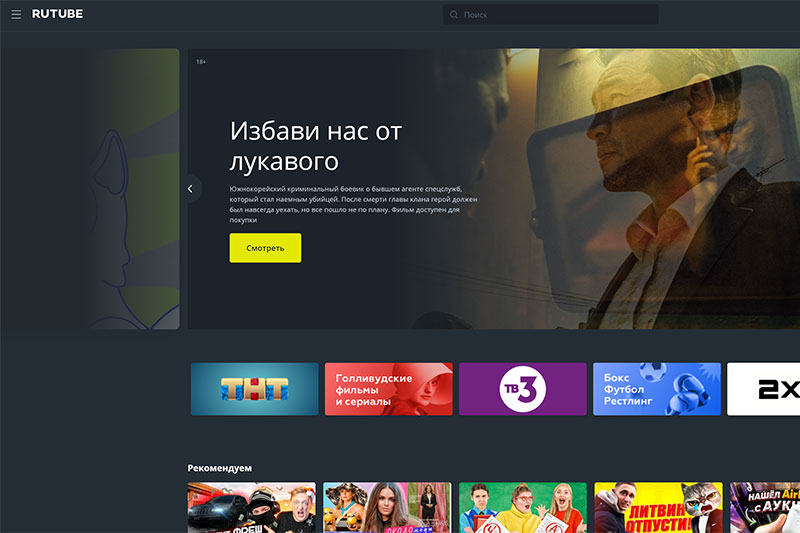Российская судебная медицина не больна. Она агонизирует
30.08.2012
Выпускник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, доктор медицинских наук Виктор Колкутин работал практикующим экспертом с 1983 года. В 1997 году стал главным судмедэкспертом Минобороны России.
За 12 лет руководства судебной медициной Минобороны участвовал в расследовании многих громких дел: взрыв на Котляковском кладбище, смерть генерала Рохлина, убийство журналиста Холодова, история рядового Сычева, гибель подлодки Курск, идентификация тел погибших в Чечне российских солдат, падение польского самолета под Смоленском, смерть Слободана Милошевича.
В 2009-2010 году возглавлял Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздравсоцразвития, откуда ушел из-за конфликта с министром Голиковой. Колкутина обвиняли в том, что он устроил на работу своих родственников (что он признает, но объясняет производственной необходимостью), и в нецелевом использовании средств, что он категорически отвергает. Известен сложными отношениями с журналистами — судился с МК и Новой газетой. Главные претензии — экспертиза по делу Холодова (утверждает, что взрывное устройство, убившее журналиста, составляло 50, а не 200 граммов тротила, что ставит под сомнение версию об участии в убийстве военных профессионалов) и время гибели подводников с Курска (утверждает, что 23 подводника из 9-го отсека жили от 4,5 до 8 часов, а не двое суток, что означает, что помочь им было нельзя).
— На вас как на главного эксперта минобороны часто оказывалось давление?
Таких случаев, когда пытались оказать серьезное давление, за всю мою карьеру было, наверно, три. Я не считаю серьезными те случаи, когда, например, звонит какой-нибудь полковник из Генштаба, и говорит: так и так, у нас сослуживец умер, надо чтобы у него в крови алкоголя не было, можете это сделать? Мы говорим: «Что сделать? Выпарить алкоголь из крови и вам в пробирке привезти? Нет, мы таких методик не применяем. А что вы хотите?» «Чтобы в анализе не было алкоголя». И тогда я говорил: «Вы знаете, у меня есть подкупающее своей простотой предложение: Я не знаю, чего вы хотите, а вы знаете. Приезжайте, и делайте сами». После этого обычно подобные разговоры заканчивались. Вроде как пошутил – но человек понимает, что ему отказывают. Однако были случаи куда более тяжёлые, как с солдатом этим многострадальным — Сычевым. (рядовой Сычев лишился ног в результате пыток и издевательств со стороны сослуживцев — прим.ред.). Ситуация была критическая, когда я фактически попрощался со всем – не только с должностью, но и с другими атрибутами этой жизни. Тогда столкнулись какие-то интересы Сергея Борисовича Иванова (министр обороны в 2001-2007 гг. — прим.ред.) и Генерального прокурора Владимира Васильевича Устинова. Им этот солдатик, сами понимаете, даром не нужен был – свои проблемы решали. Но поскольку я был в ведомстве Иванова, всем казалось, что я должен безоговорочно отстаивать интересы ведомства.
— И в чем заключались эти интересы?
В том, чтобы отстоять ведомственную позицию, что у Сычева была болезнь, что он не жертва физического насилия. Что внешнее насилие, может, и было, но будь он здоров — ничего такого бы не было.
— А на самом деле?
Мы провели глубокие исследование, больше 6 экспертиз было, привлекали самых знаменитых академиков России, против которых никто ничего не мог сказать. Они сказали аргументированно подтвердили: да, у Сычева была предрасположенность к тромбофилии, но это тоже самое, как сказать что у любого живого человека есть предрасположенность к смерти.
— Как проходило это давление? Кто вам звонил в случае с Сычевым?
Кто звонил - я уже не помню, но было сказано, куда явиться. Я явился, и долго беседовал в кабинете своего непосредственного начальника тогдашнего начальника ГВМУ (Главного Военно-Медицинского Управления — прим.ред). Если можно, фамилию называть не буду, но по годам вы при желании легко найдете (нашли: генерал-полковник медицинской службы Игорь Быков — прим.ред.). И если меня как клопа ногтем давили к столу, я представляю, что вытворяли с ним – за то, что он никак не может совладать со своим «зарвавшимся подчиненным».
— И он вам сказал
Он мне ничего не сказал, но там сидел какой-то человек, – как мне потом сказали, из близкого круга тогдашнего министра обороны. И этот человек начал меня запугивать, что поскольку я хожу в погонах, то интересы ведомства должны быть мне близки, что я должен понимать, что нахождение на таких должностях – это ситуация политическая. Я смотрю: человек молодой, ему по-моему еще сорока не было, но он уже был генерал. Тогда я, как говорится, «включил дурака» и сказал, что полностью с ним согласен, но не понимаю, зачем он мне все это говорит. Он начал излагать конкретнее: дескать, лучшие умы военной медицины считают, что там заболевание, и негоже мне противопоставлять себя известным во всем мире клиницистам, «надувать щеки» и зарабатывать себе дешевую популярность среди работников военной прокуратуры. На это я ему ответил, что очень хорошо понимаю его непростое положение, но у меня есть определенные знания, определенные принципы, и если я поступаюсь этими принципами – мне надо одновременно класть на стол рапорт об увольнении. Но поскольку я еще хочу заниматься своей профессией — позвольте я останусь при своем мнении. В общем, вся эта «бодяга» кончилась ничем – все равно мы подписали заключение, которое, мягко говоря, «не стлало соломку» минобороны в данной ситуации.
— А два других дела, по которым на вас давили? Вы упоминали о трех случаях
Да, были, но о них я не буду говорить.
— По идее профессиональная судебная экспертиза должна снимать многие вопросы в судебном заседании. Но на деле так происходит далеко не всегда. Во многих процессах фигурирует несколько экспертиз, нередко противоречащих друг другу. Суд же часто выбирает то экспертное заключение, которое поддерживает сторону обвинения. Кому верить?
Самое ужасное, что если в судах других странах открывается какое-то новое обстоятельство, которое в корне меняет всю картину, и обвиняемого, сидящего «в ожидании гильотины», вдруг оправдывают, то все этому радуются, потому что что Господь не дал состояться неправосудному решению. А у нас в России когда такое случается (оправдательный приговор), то судью, образно говоря, на носилках со стенокардией выносят, потому что им оправданий не надо. Первый раз я с этим столкнулся где-то году в 1993 — был тогда молодым преподавателем и с особым трепетом делал все экспертизы. В одной из них нам удалось доказать, что человек, которого с черепно-мозговой травмой извлекли из водоема, умер не от черепно-мозговой травмы, а от утопления. Когда судья прочитал это, он сказал фразу, которая у меня до сих пор звучит в ушах. Он в прямом смысле слова отбросил наше заключение в сторону — я уж не помню, рассыпались листки или нет — и сказал: «А меня устраивает, что он умер от черепно-мозговой травмы».
— Прямо на весь зал, громко, при всех адвокатах и прокурорах так и сказал?
Да. На весь зал. «А меня устраивает» - и не принял нашу экспертизу как доказательство. И на этот аргумент я уже ничего не смог возразить. В следующем суде, где я выступал как криминалист, нам удалось экспериментально доказать, что пистолет человека, которого обвиняли в убийстве другого человека, на тот момент был технически неисправен. Эта неисправность была связана с возможностью самопроизвольного выстрела. То есть на спусковой крючок он не нажимал, но выстрел произошёл и пуля вылетела. После меня выступал другой эксперт с совершенно противоположной экспертизой. Ему пистолет попал на исследование через полтора года после меня. Прежде, чем он огласил свои результаты, я сумел приватно задать ему несколько вопросов. Я спросил: «А где этот пистолет находился полтора года? Он отвечает: «У другого охранника». Я спросил: «Как же он мог им пользоваться, если пистолет был неисправен?» Он говорит: «А он эти неисправные детали заменил». После этого выступает судья, которая меня просто «прибила гвоздями». Она говорит: «Вы что, хотите сказать, что наши советские пистолеты плохие?!». И подсудимому дали 8 лет «за умышленное убийство». А фактически — ни за что.
— И часто в вашей практике вам приходилось встречаться с ситуациями, когда экспертиза показывает невиновность человека, а судья ему присуждает реальный срок?
Приходилось.
— У многих на слуху дело "педофила Макарова" - там все началось с экспертизы анализа мочи девочки, в котором эксперт Исаенко якобы обнаружила сперматозоиды. Повторная экспертиза именитых генетиков полностью опровергла эту первую экспертизу, но суд признал человека виновным. Вы знаете про это дело?
Конечно.
— Вы знаете эксперта Исаенко?
Майю Вячеславовну? Кто ж ее теперь не знает. Вся эта ситуация (дело Макарова) проистекала на излете моего директорства в минздраве, я отписывал эту экспертизу Иванову, приходилось читать, что сделано Исаенко.
— Тогда расскажите, откуда все взялось? Откуда эти сперматозоиды?
А ниоткуда. «Заказняк» чистой воды. Там объективной стороны вообще никакой нет. Нет никаких сперматозоидов в моче, нет никаких признаков иного сексуального воздействия. Откуда чего высосано – я совершенно не понимаю. Та же история с южноамериканцем Тапия – там ни одного грамма объективной стороны (с октября прошлого года под стражей находится пластический хирург Владимир Тапия Фернандес, которого обвиняют в развращении 13-летней дочери своей жены от прежнего брака — прим.ред.). Так любого можно объявить педофилом.
— И тем не менее Исаенко до сих пор работает экспертом, и мы не знаем, кто еще окажется жертвой заказняка. В таком случае очень важен вопрос репутации. Вот у вас же есть некое экспертное сообщество
К сожалению, нету. Экспертное сообщество – это одна из самых больших «банок с пауками». Вот в ситуации с Макаровым... Молодец Павел Леонидович Иванов, шляпу снимаю – и профессионал высшей пробы, и человек смелый. Что удивительно, он крайне негативно относится к ее (эксперта Исаенко) деятельности. Хотя это немного странно — она его ученица и все, что она умеет — ее он этому научил.
— И что делать? Человек то сидит.
У Исаенко и ранее было очень много нареканий в сфере профессиональной деятельности. Но понимаете, беда в чем? Даже если она придет сейчас и скажет: «Я все сделала неправильно» - это ничего не изменит в судьбе Макарова.
— Так это непрофессионализм, то есть недостаток образования и полученных от ее учителей знаний, или все-таки заказ? Потому что, мне кажется, есть разница все же между непрофессионализмом и злым умыслом.
Профессионализм эксперта не только в том, что ты умеешь правильно переливать из пробирки в мензурку или разрез делаешь, обходя пупок не справа, а слева. А в том, чтобы, прежде всего, понимать свое процессуальное положение. Это положение — твоя экспертная независимость, и надо ее отстаивать. А если ты не можешь, или не хочешь, или боишься, - то тогда ты профессионально непригоден, даже если ты лучше всех в мире умеешь переливать из пробирки в мензурку.
— То есть основная проблема современной судебной экспертизы – ее ангажированность?
Ангажированность, безусловно, есть, но это – не самая большая беда экспертизы. Самая большая беда – невежество. Сейчас в профессию пришло столько поверхностно обученных людей, сколько, наверное, в первые месяцы Великой Отечественной войны приходило в авиацию. И это не робкие студенты 70-80х, - они отстаивают эти свои ужасы, они выдумывают! Никогда не забуду, как мы столкнулись с одним экспертом в суде. Там ситуация была такая: два приятеля пили, один ушел в 12 часов ночи, тот его проводил до двери, а в 3 часа 30 минут любовница нашла хозяина квартиры мертвым, лежащим в унитазе в соответствующей формации, от которой он и задохнулся Время ухода гостя — 12 ночи — было железно зафиксировано соседом, который как раз в это время подходил и просил уменьшить громкость музыки. Смерть наступила, как я уже сказал, в 3 часа 30 минут, то есть, через три с половиной часа после ухода гостя. И вот тот эксперт говорит: В 12 гость хозяина душил но не додушил, у потерпевшего произошло расстройство мозгового кровообращения, но оно не было полным, он не потерял сознание и сохранил способность к активным действиям, он проводил гостя до двери, а потом в полчетвертого ему опять стало плохо от того, что его душили в 12, и от этого у него началась рвота То есть, как не крути, причина смерти — удавление руками. Вам может быть это показаться смешным, а человеку дали 10 лет - в первый раз. Потом был повторный пересмотр дела, и я пытался объяснить: так быть не может! Найдите мне в справочниках смерть от удушения через три с половиной часа после самого удушения, когда перед этим человек ходит и дверь закрывает. А то, что у него 5,5 промилле алкоголя в крови — а это смертельная доза — и что у него в бронхах и легких аспирация рвотными массами – это никого не смущает? Судья меня выслушал, потом суд ушел в совещательную комнату, итог — 6 лет. Мы потом с адвокатом подходим к судье и говорим: «Вам не стыдно?» Он отвечает: «Ну, есть немного какое-то ощущение дискомфорта, но с другой стороны: я же почти в 2 раза уменьшил срок!»
— Ангажированность, невежество... Так было всегда, или есть какая-то причина, по которой нынешняя судебная экспертиза находится в таком плачевном состоянии?
Произошла дикая коммерциализация медицины. Раньше, в советское время, стать экспертом было крайне сложно Вот когда я получал диплом врача, я знал, что могу стать хирургом или терапевтом, но я знал, что никогда не стану судмедэкспертом, потому что это была элита: туда брали лучших из лучших. Чтобы туда попасть, надо мало того, чтобы ты был идеален во всех отношениях, надо еще чтобы, как говорится, «звезды сошлись». Я знал людей, которые по 10-12 лет стояли в резерве, и так и не стали судебно-медицинскими экспертами. Сейчас, когда произошла коммерциализация медицины, все «ломанулись» в пластическую хирургию, стоматологию, гинекологию – туда, где есть каждодневные живые деньги. А сюда кто идет? Те, кому не хватило места в популярных специальностях в силу умственных способностей, или отсутствия связей. В итоге и в ВУЗы пришло новое поколение преподавателей, которому практически нечему научить сегодняшнюю молодежь. Вот нынешние сорокалетние – они уже из такого теста, которое на пироги не годится. Когда Слободан Милошевич умер в тюрьме, нас российских специалистов пригласили в качестве международной независимой комиссии оценить, чего они там навскрывали, голландцы эти. Мы посмотрели как оно там: оказалось - там практически та же самая советская система! Прежде, чем ты рискнешь подать документы на конкурс в судмедэкперты, у тебя должен быть 12-летний безупречный стаж работы в клинической области. Милошевича вскрывали мужчина и женщина – женщина ЛОР-врач, мужчина – терапевт в «прошлой жизни», то есть, до того, как стали экспертами. И хотя все голландцы выглядят молодо, им было уже хорошо так 54-55 лет. Извините, не девочка с мальчиком. А у нас как что-то сложное - позвали эксперта Исаенко. Комментарии излишни. Российская судебная медицина не просто больна. Она агонизирует, умирает. И я думаю, что если сейчас какого-то чуда не случится, то все кончится распадом на «мелкие княжества» и коммерциализируется. Сейчас предпринимаются попытки спасения судебной медицины «сверху». Затеяна некая никому непонятная процедура с громким названием «федерализация». Денег требуется – несколько десятков миллиардов рублей, а где гарантия результата? Никакой гарантии. Я всегда поражался, как можно пускаться в такие проекты без какого-либо моделирования? И во главе всего этого находятся люди, которые не имеют ни малейшего управленческого опыта, но устраивают минздрав своим умением в любой ситуации сказать: «Чего изволите? Ах, это? Так уже делается»
— Есть же коллегия адвокатов. Может быть нужна такая же коллегия судмедэкспертов, которая могла бы исключать, например, из своего состава человека, который недостоин быть экспертом. Ведь получается, что сейчас с недобросовестным экспертом ничего нельзя сделать?
Ну, сделать то, что угодно можно с любым человеком, но на это нужна сильная политическая воля, как говорится, «посыл административного ресурса». Я это почувствовал на себе: когда я ушел из минздрава, двадцати четырех часов не прошло, как от имени госпожи Голиковой последовали указания во все вузы Москвы: не брать ни в коем случае. Через 72 часа это дошло и до всех экспертных учреждений минздрава на местах. Я сейчас ни в какое экспертное учреждение устроиться не могу — боятся брать.
— Чем вы стали так неугодны?
У меня есть такое качество: сначала могу вызвать необъяснимую любовь, а потом - дикую ненависть.
—
Такую ненависть вы, очевидно, вызываете у некоторых журналистов и
адвокатов, занимавшихся гибелью подлодки Курск. На этой неделе как раз
отмечают очередную годовщину трагедии, и ваше имя тесно связано с
расследованием, результатами которого многие до сих пор не
удовлетворены. Ваша версия относительно времени гибели подводников с
Курска
Можно сразу поправлять? Первое: Это не версия — это доказанный
факт. Второе: — это не моя версия, это факт, доказанный комиссией из 12
человек.
— Хорошо. Одной из главных претензий к вашей экспертизе, в частности со стороны адвоката Бориса Кузнецова и журналистов Новой газеты, с которой вы судились, является то, что вы сначала утверждали что : «невозможно точно установить время наступления смерти относительно момента аварии подводной лодки» и только потом появляются выводы, что подводники оставались живыми 4,5-8 часов. Но что тогда делать с десятками свидетельств людей, которые слышали сигналы SOS весь следующий день?
Это вопрос не ко мне, я абсолютно не знаю на него ответа.
Чем хороша экспертная работа: каждое из экспертных направлений —
криминалисты, эксперты акустики, судебные медики — предоставляют свой
сегмент информации а вот следователь – пчелка такая, должен все
переработать и спродуцировать мед. Если получится не мед, значит он не
пчелка, а муха.
Увязывать разнородные факты — не наша задача. Мы
исследуем мертвое тело. Это мертвое тело с нами «разговаривает» на нашем
специфическом языке. Оно предоставляет нам сведения о себе — в виде
следов, в виде каких-то сочетания признаков, в виде последовательности
каких-то изменений — все это укладывается в определенную картину,
которую мы синтезируем и предоставляем как некий интегральный продукт.
Например, если время прохождения пищи по кишечнику от желудка до прямой
кишки обозначено определенным интервалом в часах, то можно позвать 20
человек, которые слышали звуки SOS, можно позвать 120 человек, которые
слышали звуки SOS, — это для меня, как специалиста в области
жизнедеятельности человека и посмертных явлений не будет иметь никакого
значения. Когда на одной чаще весов время прохождения пищи по
кишечнику, а на второй — какие-то показания о звуках SOS — то первое в
миллионы раз значимее и информативнее.
— Вы возглавляли комиссию минобороны, которой поручено проведение этой экспертизы, и вы делаете выводы по событию, в котором минобороны крайне заинтересовано в том, чтобы доказать, что они ничего не могли сделать. Ваш вывод им очень удобен
А вот здесь я с вами сразу не соглашусь. Во-первых, никто из гражданских экспертов, — ни малых, ни великих, с этой ситуацией объективно справиться не мог: никто не знает варианты водолазной травмы, варианты взрывной травмы под водой. Это могли делать только военные эксперты, потому что они эту патологию знают и они понимают, что за процессы происходят при попадании человека в такие условия.
Во-вторых, почему вы считаете, что минобороны было в этом заинтересовано? Любое министерство в нынешнем нашем правительстве в чем-то заинтересовано только до тех пор, пока эта ситуация не становится известна «управляющему всея Руси». С этого момента их задача — не заинтересованность ведомства проявлять, а улавливать, что хочет первое лицо.
— Ну первое лицо было как раз больше других заинтересовано в том, чтобы было доказано, что ничего сделать было нельзя – его же первым обвиняли тогда в потере времени.
Я не являюсь горячим
поклонником нынешнего президента и нынешнего правительства, я в этих
вопросах нейтрален. Как сказано: «Любая власть — от Бога». Но именно эта
история показала — у меня есть основание это говорить — что была и
человеческая и политическая воля разобраться, что произошло на самом
деле с подводной лодкой «КУРСК». Мы чувствовали эту волю. И не то что
попытки — замыслы попыток подойти к нам и на что-то негативно повлиять -
тут же пресекались.
Никто не хочет разговаривать о ситуации по
существу. Все хотят говорить о неких парамедицинских вопросах, которые
при наличии у нас грязных рук холодного сердца могли бы позволить нам
совершить неблаговидные поступки. Вам не нравится время 4,5-8 часов.
Пожалуйста с позиции судебной медицины обоснуйте любое другое время —
либо меньше 4,5 либо больше 8. Представьте свои основания, как
представили их мы для своих 4,5-8 часов — и тогда у нас начнется
аргументированная дискуссия. Я нигде не встречал серьезных аргументов,
которые бы отвергали нашу идею, которая получила подтверждение.
—
Понимаете, с точки зрения простого наблюдателя, который не специалист в
определении времени смерти по прохождению пищи по пищеводу, очень сложно
понять, как десятки человек могли слышать SOS через сутки после аварии,
если все были к тому времени мертвы. Мозг простого человека хочет
найти этому объяснение. А не находя начинает испытывать сомнение.
Как
объяснить некоторые вещи? Я тоже далек от мысли, что удалось всю
картину на 100 процентов восстановить. Ни одно преступление и
происшествие никогда на 100 процентов не реконструируется, всегда
остаются какие-то загадки — о них либо говорят, либо не говорят, либо
они существенны, либо не существенны. Тут тоже наверняка остались
загадки.
Но ведь мы с каждым родственником прожили его ситуацию — не
только следователи и психологи, ведь водили их к телам родственников мы,
эксперты, смотрели вместе с ними мы, выслушивали все эмоциональные
всплески — тоже мы. С каждым велась – не могу сказать даже «работа» —
такая совместная жизнь в этот тяжелый для них период. И все вопросы
которые они задавали, которые их волновали, которые у них оставляли
сомнения — все эти вопросы решались там, в палатке у экспертного стола.
Когда мы оттуда уехали — я вам честно скажу — у меня не было даже мысли о
том, что у кого-то из эти людей остались какие-то сомнения. И когда
вдруг через три месяца под действием каких-то непонятных мне сил вдруг
возникает инициативная группа (которая выступила с заявлением о
возобновлении расследования — прим.ред.) — для меня это честно говоря
был настоящий удар. Я тогда подумал: «Они могли обратиться к нам — но
почему-то пошли другим путем».
— Вы говорите о качестве следствия. Тогда что, следствие проходило на другом уровне? Потому что тот уровень следствия, который мы наблюдаем сегодня, не позволяет доверять их выводам
Знаете, один мой друг не ест мяса. Когда его спрашиваешь, почему, он рассказывает, что в молодости в советское время работал на колбасном заводе. Так вот там по понедельникам делали колбасу для обкома партии, а по остальным дням для остального населения.
И в понедельник прежде чем готовить фарш, они проходили с колотушкой и стучали по емкостям, чтобы все оказавшиеся там за субботу-воскресенье крысы убегали. В остальные дни с колотушками они не ходили. Мне эта ситуация запомнилась, и я ею отвечу вам: тогда (с расследованием гибели «Курска») была «ситуация для обкомов». Любое наше ведомство способно на многое если партия скажет «надо».
— Допустим. Но странно предположить, что «партии», и Путину лично, было нужно независимое следствие.
Тогда было нужно.
Источник: publicpost.ru
Мария Эйсмонт